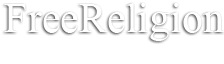| Канон — это содержательная форма. И в этом легко убедиться: если нарушить, например, агиографический канон, то получится рассказ, повесть, биография или даже сказка, но не будет главного — жития; если нарушить иконографический канон, то будет портрет или картина, но не будет иконы. История искусства Возрождения свидетельствует именно о том, как проявления "свободной" творческой воли художника, выражавшиеся прежде всего в разрушении средневекового канона, формировали современную живопись и современную литературу. В истории русской живописи, вставшей на этот путь в XVII веке, есть даже промежуточный этап: икона — парсуна — портрет. Оставаясь в рамках иконописания, художник сознавал, что нарушение канона возможно лишь в одном единственном случае: если новшество совершенствует канон, поднимает его на новую высоту, делает идею произведения, не принижая ее, более наглядной, легко "читаемой". Уместно здесь в качестве примера привести иконографию знаменитой иконы прп. Андрея Рублева "Троица", которая, с одной стороны, явилась открытием в области формы и, вместе с тем, — новым каноном (по постановлению Стоглава). Самая трудная богословская задача, стоящая перед иконописцем, пишущим икону Пресвятой Троицы, — выразить живописно догматическую, богословскую антиномию: Троица в Единице и Единица в Троице. Логически разрешить или доказать здесь ничего нельзя. Но можно показать. Это идеально удалось святому иконописцу. Его икона — явленное Триединство, которое свидетельствует, что это возможно, что это есть.
Парадоксальное, на первый взгляд, утверждение, что канон не оковы, а свобода, было наиболее ясно и четко сформулировано и обосновано чуть позже о. Павлом Флоренским. " .Трудные канонические формы во всех отраслях искусства всегда были только оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования. Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию художника к новым достижениям, к творческим взлетам и освобождает от необходимости творчески твердить зады: требования канонической формы, или, точнее, дар человечества художнику канонической формы есть освобождение, а не стеснение . Ближайшая задача — постигнуть смысл канона изнутри, проникнув в него, как в сгущенный разум человечества .". Флоренский, как видим, в своей интерпретации канона делает акцент лишь на положительных сторонах канонических форм: во-первых, канон — это как бы аккумулятор достигнутого в области формы (конечно, соответствующей вполне определенному содержанию, канон — это "содержательная форма"); во-вторых, канон высвобождает ту часть энергии, которая тратится "свободным" художником на поиск формы; найдя же форму, художник вынужден в дальнейшем ее строго придерживаться, т.е. сразу же "канонизировать" (так Пушкин создал и закрепил в своем романе в стихах строфу, получившую впоследствии название "онегинской")(2);в-третьих, канон предполагает всегда предварительное осмысление, осознание его как единственно возможной формы для данного содержания, его внутренней необходимости, а также осознание его как творческой свободы, претворение его во "внутренний канон". Об этом же настойчиво напоминают современные иконописцы: "Приводя свою жизнь и творчество к Богу через канон, вводя их в определенные ритмы, стесняя себя — мы освобождаемся; свободной и все более полной, благодатной становятся и наша жизнь, и наше творчество. Вот что такое свобода внутри канона". И наоборот: "Отходя от постижения канона как от постижения бесконечно разнообразных, но единых правды и красоты Божиих, явленных в мире Божием, всякое искусство падает. Падает и человек как личность, страдает, умирает его душа, когда отходит от путей прямых, Божиих — канонических".
Отец Павел Флоренский указал также на такую важную черту иконографического канона, как его символизм. " .Иконографические символы, — писал он, — не только эмблемы, но и некоторые мистические реальности; они, ведь, — не голые значки иного мира, не алгебраические формы мира духовного, но также — одеяния и картины высшей реальности". Если так, то иконографический символ также можно рассматривать на трех уровнях (излагать на трех языках) — божественном, священном и мирском. По Флоренскому, следовательно, иконографический канон — это прежде всего данная в откровении Святым Отцам духовная онтологичная реальность ("божественный язык"); затем это собственно икона в ее идеальной гармонизации композиционного, графического и цветового канонов ("священный язык"); наконец, возможный, но не обязательный, примитив или подражание, в котором соблюден формальный канон, но совершенно отсутствует его интериоризация ("мирской язык").
Другое по темеОкончательное размежевание христианства и иудаизма во ІІ веке
Внутренняя организация христианских общин восточного бассейна Средиземного моря,
ставшая моделью для других церквей греко-римского мира, предстает перед нами во
всей своей непосредственности в тексте, который пользовался больш ...
|